 В предыдущем очерке мы писали о ситуации мнимого целого, - принудительной, экономически артикулированной совокупности разобщённых, гетерогенных элементов. Одним из важнейших сегментов этого «сериала серий» является герменевтика одежды, которая становится антропологическим феноменом, между тем, как телу отводится все более скромная, - да, «стыдливая» роль. И не только в ретроспективе креационизма, не в аспекте доминации христианства и т.п., - в архаических культурах [и религиях] тело само по себе, - крайне ненадёжный, практически невесомый залог.
В предыдущем очерке мы писали о ситуации мнимого целого, - принудительной, экономически артикулированной совокупности разобщённых, гетерогенных элементов. Одним из важнейших сегментов этого «сериала серий» является герменевтика одежды, которая становится антропологическим феноменом, между тем, как телу отводится все более скромная, - да, «стыдливая» роль. И не только в ретроспективе креационизма, не в аспекте доминации христианства и т.п., - в архаических культурах [и религиях] тело само по себе, - крайне ненадёжный, практически невесомый залог.Нагота или оголённость свидетельствует не о постыдном, но — уязвимом, напр., о низком социальном статусе с присущей этой низости поведенческом модусе, да и вообще, повседневной культуре данной группы / сообщества. Видный японист Александр Мещеряков пишет в своём очерке: Европейцы сурово осуждали японцев за телесную нестеснительность, но следует иметь в виду, что чем выше был статус человека, тем меньшая часть его тела подвергалась экспозиции — представителя элиты никогда нельзя было увидеть обнаженным. Те же занятия, для которых требовалось раздеваться, котировались в Японии невысоко. Это касается прежде всего крестьян и городских низов.
Это случайный пример, относящийся к сравнительно поздним временам, - не ранее становления крупной метрополии, не ранее Хэйан-дзидай [平安時代] — с 794 по 1185, когда столица Хейдзё-кё (совр. Нара) надолго «осела» в Хэйан-кё (совр. Киото) и зафиксировались сословные основы, учреждённые в период Нара [рёмин (良民, добрый люд) и сэммин (賎民, подлый люд). К первой категории относились чиновники (элита, аристократия), свободные общинники (бякутё, будущие буси), синабэ и дзакко (ремесленники, прямо зависевшие от двора тэнно). Категорию сэммин составляли гробокопатели и охранники могил; преступники и их семьи, низведённые до государственных рабов; рабы, находившиеся в частном владении].
Неслучайным, не притянутым это станет оттого, что мы находим в мифологической иконографии многих этнокультурных ареалов, и не только «развитых» [посмотрите, напр., на «икону» космократоров микроконтинента, Идзанами и Идзанаги XIX века], боги, обладающие всеми известными человеку [во всех трёх "временах"] инструментами, наделяют человека почти всем уже готовым, - знаками и атрибутами иерархической идентичности включительно. Если немного сократить, «модернизировав» антропогенетический миф, при всём сильном влиянии креационизма через культ Карго и миссионерские пересказы христианского / иудейского Предания, заметно фундаментальное различие: дарованная богами идентичность проявляется в самом начале, и всякое начало в рамках Рода, который не есть ауторепродуцируемая серия, повторяется. Посмотрим, что пишет по этому поводу Джеймс Фрезер:
<...> некоторые из приморских племен даяков [остров Борнео] думают иначе. По их мнению, творцом людей является некий бог по имени Салампандаи. Он молотком придает глине форму младенцев, которым предстоит родиться на свет. Есть такое насекомое, которое ночью производит странный звенящий шум, и когда даяки слышат его, то говорят, что это Салампандаи сидит за работой, стуча молотком.Борнеоский Прометей, Салампандаи в данной ситуации оказывается более тщательным, усердным и, вместе с тем, расчётливым творцом, господином оформителем, чем Яхве, - ещё в преднатальный период он организует будущность своих креатур. Ответ на вопрос богов, «за что подержаться?» (что делать?) звучит / читается здесь как присяга Примордиальному Замыслу, - изначальной двойственности, дуализма пола, подчёркнутого атрибутикой (мечом или прялкой). Ближневосточная и европейская идиома до некоторых пор и до частичного редуцирования античности в южном Ренессансе [см. далее], относилась к антропогенезису с тем же пиететом и некоторой жалостливостью, акцентируя внимание на мифологемах, а не человеческой природе, как таковой.
Предание гласит, что боги поручили ему сделать человека, он сделал его из камня, но истукан не мог говорить и был поэтому забракован. Тогда бог сел опять за работу и сделал человека из железа, который, однако, также оставался немым, и боги решительно отказались от него. В третий раз Салампандаи сделал человека из глины (тоже посредством молотка, по-видимому — прим. наше), и этот человек обладал способностью речи. Боги остались довольны и сказали:
"Человек, которого ты сделал, годится; пусть он будет родоначальником человечества, а ты продолжай делать других таких же". И вот с тех пор Салампандаи стал мастерить людей, и поныне он еще продолжает работать на своей наковальне и своим инструментом в неведомых краях. Здесь он лепит глиняных людей, и каждый раз, когда ребенок у него готов, он приносит его богам, которые спрашивают ребенка: "Что ты хочешь держать в руке и постоянно употреблять?" Если младенец отвечает: "Меч", то боги объявляют его мужчиной, а если младенец говорит: "Пряжу и прялку", то они объявляют его женщиной. Так рождаются дети мальчиками или девочками по их собственному желанию.
Карл Кереньи, однако, замечал, что у многих Знаковых с заглавной буквы фигур в эллинской мифологии уже в архаических сказах есть иррациональный, отрицательный во всех смыслах и свойствах двойник; “биография” Прометея невозможна без его бестолкового братца Эпиметея и Пандоры, чьё любопытство сгубило первых= лучших, и узурпатор-Кроноубийца тут ни причём. К слову, показательно, что пандорой называли с XVIII до 60-х годов XIX века мини-манекена для «показов мод» на витринах портных.
Совсем не то мы находим в мифологии иудейской, распространившейся вместе с переводами ближневосточного предания на коптский и греческий. Мы находим там физиологическое, если угодно, буквально репрезентуемое «первозданное», - второй фрагмент книги “Берейшит”, повествующий о творении человека, 2:4-3:24 переводится дословно тождественно синодальному и пр. каноническим переводам: «и были оба наги, и не стыдились» (# 25). Ср. с Бытие II.25 «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились».

привносим разнообразие в буковки
Помимо прочего, Яхве не уподобился Хнуму, египетскому отцу богов, вылепившему людей из глины на гончарном круге; еврейская поделка минует фазу вторичной обработки «сырья», творение про-исходит ex nihilo в незавершённой форме. Позднейшие источники, особенно, - каббалисты, добавляют к процедуре оживления (дыханием, вдохом) глиняной фигурки откровенно артистические черты. Ицхак Лурия упоминает о танце вокруг «истуканчика», стоявшего (?) в центре круга-мироздания, и по мере приближения танцующего к центру «сцены», последовательно «оживающего», как будто реанимируемого; начинает биться сердце, растекается кровь по венам и артериям и т.д. Тем не менее, как и в общеизвестном для читателей наших журналов “Апокрифе Иоанна”, где над телом человеческим усердствует целый сплоченный злокозненностью коллектив, монотеос брезгует ремеслом в [без]предельном широком смысле этого слова. Превосходный предикат апофатической и негативной теологии, а ещё гностических измышлений: первоархонт не правит, подобно кеметским и месопотамийским божествам; не воюет, поручая то агрессивным фанатикам вроде Иисуса Навина; для со-творения чуда ему непременно нужен медиум (прецедент пророка Илии); не лепит, по крайней мере, сам, для этого и существует генетическая фабрика в вышеупомянутом апокрифе, не обрабатывает напильником и не существует.
Разумеется, при подробном ознакомлении с разнообразными источниками, а не только синодальным переводом и современным, всё выйдет не так гладко~гадко, зато станет очевидным отношения между божественным и человеческим через атрибуцию, - и это будет ассимилирующее отношение, подобное этнокультурному модусу самих иудеев, адаптирующихся и адаптирующих окружение не в лучших планах и перспективах.
Sic, в ортодоксальной и некоторых формах христианской гетеродоксии существенность, сущностность творца накручена за счёт ипостаси сына, уделившего внимание практически всем сословиям современного тварному воплощению общества; но к тому времени отцовство окончательно стало ассоциироваться с паразитической деспотией, на чём не преминули въехать разнообразные «еретики».
И ещё разок:
Далее, кордовский еврей Раби Моше бен Маймон Рамбам в XII веке составляет книгу предписаний для ордодоксов “Сефер А-мицвот”, содержащую постулаты вроде "Каждый, кто не накладывает тфилин, преступает восемь повелений" (Менахот 44а, един. число тфила [תְּפִלָּה] - «чёрный ящик» иудаизма, амулет) – популярное изложение всего, что известно ближневосточным семитам по Талмуду, Бахир, Зогар, Сефер-Йецира и др. В указанном сочинении мы находим колоссальный по изощрённости свод ассимиляционных директив, которые ставят человеческое тело и одежду далеко за пределы естества, подобного духу, дышащего, где хочет. Божественное, реконфигурируя – отсутствие божественного, первичная, она же совершенная, завершённая пустота конденсируется в конкретных предметах одежды и аксессуарах, как если бы יהוה присвоил, точнее, вдохновил (повелевая) на создание протезов для немощного, уродливого сущего.
N.B: пример не адаптированного, изоляционистского знания: “Тайна нечистоты”.
Таковое отношение не устраивало даже якобы зашоренное, пуристское средневековье, - по словам Хейзинги, Эко и ле Гоффа создавшего моду, руководствуясь отнюдь не рационально-гигиеническими соображениями. Более того, в средневековом костюме, перечень деталей которого можно найти и в википедии, форма и колорит продиктованы, скорее, реминисценцией «языческой» атрибутики, выраженной и в ассоциативном ряду «пурпурный = благородный» и в андрогинальности [сейчас кто-нибудь ляпнет про «юнисекс»] котарди (cotardie) и блио (bliaut) до XII века.
Несмотря на зловещие заверения отцов церкви, тело оставалось, как и прежде, в политеистических культурах, не более чем диаметральным иным социокультурной иерархии, выраженной одеждой. Подчеркнём, что современные, более внимательные к бытовым мелочам и сиюминутным капризам исследователи средневековья находят не столько разительное отличие той эпохи от Ренессанса, сколько последовательную, постепенную трансформацию эстетических и метафизических представлений о человеке, как таковом. Настаивающие на поляризации, на социокультурной инверсии Возрождения, особенно, южного, флорентийского преимущественно, по отношению к Средним Векам, почти ненамеренно упускают из внимания один существенный аспект рассмотрения различий. Региональная имплозия неоплатонизма, втиснутого в алхимические трактаты и «классику живописи», нисколько не повлияла на социальные, политические и экономические основы европейских обществ с XV до XVI века. Это произошло значительно позже, в т.н. классическую эпоху, когда рационализм вывел из тел и вещей естество в традиционном смысле этого слова, - будь они нагими или облечёнными <во что бы то н было>.
В ином случае мы получим конспирологически-гуманитарную, излишне упрошённую схему Алексея Лосева о заговоре платоников в аристотелианском Риме (см. примечание).
С другой стороны, художники, писатели и философы Ренессанса очертили дихотомию, о которой мы тут толкуем, после чего, проблему и вопрос, собственно, можно снимать с синхронических повесток и закрывать соответственно. Ю.С. Степанов в статье из книги “Константы: Словарь русской культуры” [3-е изд. - М.: Академический проект, 2004, с. 431-433] приводит ряд сигнификаций-перпендикуляров, разграничивших архетипические образы, эйдосы тела и одежды, sub specie политеистической (а не одной платонической) Традиции в правильном порядке. Для читающих слева направо, фигуры Тициана, указанные в статье по ссылке, расположены последовательно: олицетворение вещного, но не-тварного порядка остаётся в неподвижности, нагота слово вторгается из будущего в настоящее (справа – к центру), куда прошлое не проникает. Процитируем статью:
Итак, на приведённом рисунке Пенфей предстаёт нам нагим, между тем, как его мать и родная тётка [Агава и Автоноя] одетыми, для современного им аттического общества с соответствующими нравами и организацией праздников (только в поздние времена появляются «релевантные» образы вакханалий с поголовной наготой или близкого к тому). Трудно предположить, что подобная целомудренность «на четверть титанид» была предписана чем-то вроде постулатов «Сефер А-мицвот» для эллинов, - “наготы матери твоей не открывай: она мать твоя, не открывай наготы ее” (Ваикра 18:7); данайцы не церемонились с собственным мифом и щедро укомплектовывали иконографию физиологическими подробностями, в том числе – гениталиями, как мужскими, так и женскими, крупным планом. До настоящего времени, поясним, добрались по археологическим и музейным тропам мизерный объём «античной порнографии»; зато мифический эрос в рафинированной ~ ретушированной форме рассеян по пересказам и обрывочным донесениям, по которым мы можем судить о развитии и регрессе «срамного воображения».
К этому присовокупим эпитому из книги Кеннета Кларка “Нагота в искусстве” [СПб., 2004, с. 10-39]: Как я уже сказал, в нашем диогеновском поиске физической красоты мы инстинктивно желаем не подражать, а совершенствовать.
<...>
Существует великое множество подтверждений этого положения, и главное из них то, что все имеет идеальную форму, а явления земной реальности суть лишь ее более или менее испорченные копии.
C помощью чего мы и можем подытожить: чем больше мы узнаём оригинал, тем больше станем любить (разнообразно) и ценить (экономически в т.ч.) симулякр, или то самое испорченное подобие. Хотя бы потому, что это самое испорченное можно нафаршировать с предельной плотностью эйдетикой – история нам «запретила» опознавать оригинал, заповедовав судить о нём апофатически. В псевдо-конечных, всегда предварительных итогах, оказывается, что пресловутый дар, вплоть до гениальности, присущей по природе, проявляется в подобии с большей экспрессией, с большей силой, вытесняющей всё «злое, глупое, преходящее». Которое мы и так изобильно сеем и пожимаем. И в тот час, день, год, да хоть бы и век, когда мы интуитивно, нечаянно «узнаём» в превосходно (над тем самым «земным порядком») сделанной вещи симулякр, кичливо заявляющий о своём бесподобии, тем самым, провоцируя и стимулируя подозрения, имеет смысл довериться ему, - вполне вероятно, что он не врёт. А если и врёт, по достоинству оценим его риторические способности, как Хлебников рёк: он врёт, как соловей ночью.
Прим.: Сейчас нужно считать сильно устаревшей характеристику Альберта Великого, Фомы Аквинского, Бонавентуры или Иоанна Дунса Скота как философов исключительно аристотелистского типа. Теперешние исследователи этой ведущей философии XIII в. усматривают в ней неоплатонизм не меньше, чем аристотелизм.
Разумеется, при подробном ознакомлении с разнообразными источниками, а не только синодальным переводом и современным, всё выйдет не так гладко~гадко, зато станет очевидным отношения между божественным и человеческим через атрибуцию, - и это будет ассимилирующее отношение, подобное этнокультурному модусу самих иудеев, адаптирующихся и адаптирующих окружение не в лучших планах и перспективах.
Sic, в ортодоксальной и некоторых формах христианской гетеродоксии существенность, сущностность творца накручена за счёт ипостаси сына, уделившего внимание практически всем сословиям современного тварному воплощению общества; но к тому времени отцовство окончательно стало ассоциироваться с паразитической деспотией, на чём не преминули въехать разнообразные «еретики».
И ещё разок:
<...>В данном фрагменте мы не затрудняемся предположить, не определяя безусловно, что означает эта постыдная нагота, оставшаяся после изготовления «опоясаний». Мы называем одеждами кожаными само человеческое тело, знание о коем и ощущение которого коррелируется с шатким балансом внешней привлекательности скрытого и отталкивающим раскрытым внутренним. В некотором смысловом поле, одеяния, созданные монотеосом – это и есть разоблачение, принуждённое обнажение и обнаружения, сродни элиминации человечеством (а не “человечества из…”) χρυσεον γενος Гесиода или auræ aetas Вергилия.
Бытие III.
7. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания.
8. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая.
9. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты?
10. Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся.
<...>
21. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их.
Далее, кордовский еврей Раби Моше бен Маймон Рамбам в XII веке составляет книгу предписаний для ордодоксов “Сефер А-мицвот”, содержащую постулаты вроде "Каждый, кто не накладывает тфилин, преступает восемь повелений" (Менахот 44а, един. число тфила [תְּפִלָּה] - «чёрный ящик» иудаизма, амулет) – популярное изложение всего, что известно ближневосточным семитам по Талмуду, Бахир, Зогар, Сефер-Йецира и др. В указанном сочинении мы находим колоссальный по изощрённости свод ассимиляционных директив, которые ставят человеческое тело и одежду далеко за пределы естества, подобного духу, дышащего, где хочет. Божественное, реконфигурируя – отсутствие божественного, первичная, она же совершенная, завершённая пустота конденсируется в конкретных предметах одежды и аксессуарах, как если бы יהוה присвоил, точнее, вдохновил (повелевая) на создание протезов для немощного, уродливого сущего.
N.B: пример не адаптированного, изоляционистского знания: “Тайна нечистоты”.
Таковое отношение не устраивало даже якобы зашоренное, пуристское средневековье, - по словам Хейзинги, Эко и ле Гоффа создавшего моду, руководствуясь отнюдь не рационально-гигиеническими соображениями. Более того, в средневековом костюме, перечень деталей которого можно найти и в википедии, форма и колорит продиктованы, скорее, реминисценцией «языческой» атрибутики, выраженной и в ассоциативном ряду «пурпурный = благородный» и в андрогинальности [сейчас кто-нибудь ляпнет про «юнисекс»] котарди (cotardie) и блио (bliaut) до XII века.
Несмотря на зловещие заверения отцов церкви, тело оставалось, как и прежде, в политеистических культурах, не более чем диаметральным иным социокультурной иерархии, выраженной одеждой. Подчеркнём, что современные, более внимательные к бытовым мелочам и сиюминутным капризам исследователи средневековья находят не столько разительное отличие той эпохи от Ренессанса, сколько последовательную, постепенную трансформацию эстетических и метафизических представлений о человеке, как таковом. Настаивающие на поляризации, на социокультурной инверсии Возрождения, особенно, южного, флорентийского преимущественно, по отношению к Средним Векам, почти ненамеренно упускают из внимания один существенный аспект рассмотрения различий. Региональная имплозия неоплатонизма, втиснутого в алхимические трактаты и «классику живописи», нисколько не повлияла на социальные, политические и экономические основы европейских обществ с XV до XVI века. Это произошло значительно позже, в т.н. классическую эпоху, когда рационализм вывел из тел и вещей естество в традиционном смысле этого слова, - будь они нагими или облечёнными <во что бы то н было>.
В ином случае мы получим конспирологически-гуманитарную, излишне упрошённую схему Алексея Лосева о заговоре платоников в аристотелианском Риме (см. примечание).
С другой стороны, художники, писатели и философы Ренессанса очертили дихотомию, о которой мы тут толкуем, после чего, проблему и вопрос, собственно, можно снимать с синхронических повесток и закрывать соответственно. Ю.С. Степанов в статье из книги “Константы: Словарь русской культуры” [3-е изд. - М.: Академический проект, 2004, с. 431-433] приводит ряд сигнификаций-перпендикуляров, разграничивших архетипические образы, эйдосы тела и одежды, sub specie политеистической (а не одной платонической) Традиции в правильном порядке. Для читающих слева направо, фигуры Тициана, указанные в статье по ссылке, расположены последовательно: олицетворение вещного, но не-тварного порядка остаётся в неподвижности, нагота слово вторгается из будущего в настоящее (справа – к центру), куда прошлое не проникает. Процитируем статью:
Диалогичность Возрождения великолепно может быть проиллюстрирована картиной Тициана "Любовь небесная и любовь земная". Сложная символика этой вещи хорошо изучена, я не могу ее здесь касаться. Но замечательно, что современный зритель, с этой символикой не знакомый, скорее всего, с первого взгляда перепутает, где тут любовь земная и где небесная. Христианство (Amor sacra) изображено в фигуре обнаженной, полной движения, чувственной неги и мечтательности; язычество (Amor profana) в фигуре, пышно и торжественно разодетой, монументальной и строгой. Иначе говоря, язычество выглядит христианским, христианство – языческим.В данной структуре образов мы опознаём и драматический ноктюрн, потому что прошлое и будущее, одеяние и нагота не только встречаются, но и полемизируют, враждуют между собой. Ранее мы видели подобное на росписи, датируемой V веком до н.э., повествующей о гибели царя Пенфея от рук вакханок; фиванский эфор (согласно Павсанию – не царь, а могущественный вельможа) для своего легендарного времени стал тем же, что и «нелегитимные» владыки средневековой Европы, которых «на всякий случай» (если избегут прижизненной кары) отлучали от церкви. К слову вспомним ритуальное обхождение городского вала босым, в одной рубашке, с верёвкой на шее и свечой в руке [искупление через позор]. Епитимья такого толка не являлась воздаянием за содеянное, «удовлетворением бога», - то было временным изъятием с определённой ступени иерархии, которую индивидуум в определённое же время не был в праве занимать.
Итак, на приведённом рисунке Пенфей предстаёт нам нагим, между тем, как его мать и родная тётка [Агава и Автоноя] одетыми, для современного им аттического общества с соответствующими нравами и организацией праздников (только в поздние времена появляются «релевантные» образы вакханалий с поголовной наготой или близкого к тому). Трудно предположить, что подобная целомудренность «на четверть титанид» была предписана чем-то вроде постулатов «Сефер А-мицвот» для эллинов, - “наготы матери твоей не открывай: она мать твоя, не открывай наготы ее” (Ваикра 18:7); данайцы не церемонились с собственным мифом и щедро укомплектовывали иконографию физиологическими подробностями, в том числе – гениталиями, как мужскими, так и женскими, крупным планом. До настоящего времени, поясним, добрались по археологическим и музейным тропам мизерный объём «античной порнографии»; зато мифический эрос в рафинированной ~ ретушированной форме рассеян по пересказам и обрывочным донесениям, по которым мы можем судить о развитии и регрессе «срамного воображения».
К этому присовокупим эпитому из книги Кеннета Кларка “Нагота в искусстве” [СПб., 2004, с. 10-39]: Как я уже сказал, в нашем диогеновском поиске физической красоты мы инстинктивно желаем не подражать, а совершенствовать.
<...>
Существует великое множество подтверждений этого положения, и главное из них то, что все имеет идеальную форму, а явления земной реальности суть лишь ее более или менее испорченные копии.
C помощью чего мы и можем подытожить: чем больше мы узнаём оригинал, тем больше станем любить (разнообразно) и ценить (экономически в т.ч.) симулякр, или то самое испорченное подобие. Хотя бы потому, что это самое испорченное можно нафаршировать с предельной плотностью эйдетикой – история нам «запретила» опознавать оригинал, заповедовав судить о нём апофатически. В псевдо-конечных, всегда предварительных итогах, оказывается, что пресловутый дар, вплоть до гениальности, присущей по природе, проявляется в подобии с большей экспрессией, с большей силой, вытесняющей всё «злое, глупое, преходящее». Которое мы и так изобильно сеем и пожимаем. И в тот час, день, год, да хоть бы и век, когда мы интуитивно, нечаянно «узнаём» в превосходно (над тем самым «земным порядком») сделанной вещи симулякр, кичливо заявляющий о своём бесподобии, тем самым, провоцируя и стимулируя подозрения, имеет смысл довериться ему, - вполне вероятно, что он не врёт. А если и врёт, по достоинству оценим его риторические способности, как Хлебников рёк: он врёт, как соловей ночью.
Прим.: Сейчас нужно считать сильно устаревшей характеристику Альберта Великого, Фомы Аквинского, Бонавентуры или Иоанна Дунса Скота как философов исключительно аристотелистского типа. Теперешние исследователи этой ведущей философии XIII в. усматривают в ней неоплатонизм не меньше, чем аристотелизм.

P.S. В некоторый момент написания этого очерка нас грозились, по крайней мере, забросать чулками. Чöрными. Это неспроста, думаем мы.
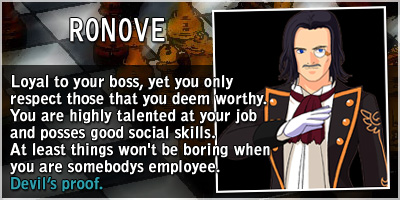




Комментариев нет:
Отправить комментарий